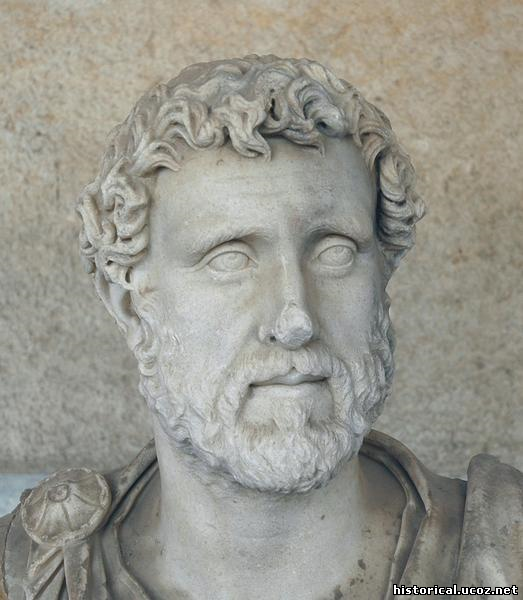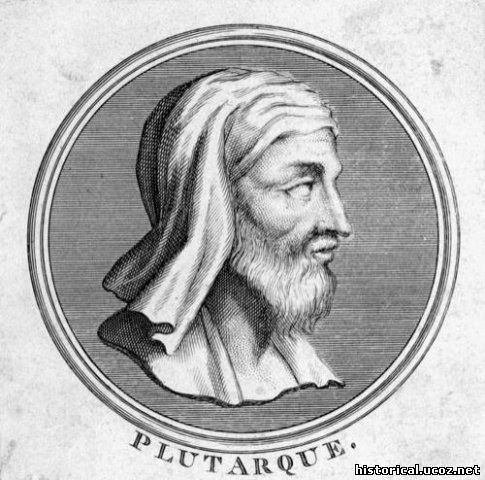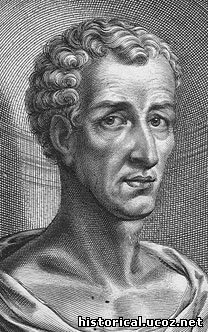ДРЕВНЕРИМСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
ИМПЕРИЯ в I – II вв. н. э. ЧАСТЬ II - Я
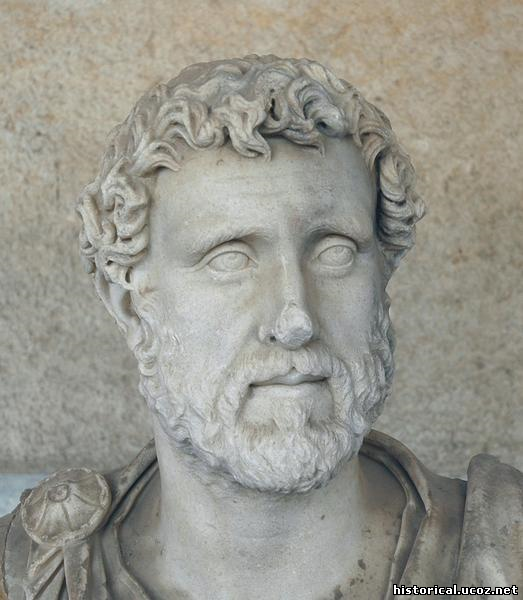
Римский историк Аппиан Александрийский
Греко-римская культура стала уже единой. В это время писал историк Тацит (около 55 – около 120 гг.), труды которого – «Диалог об ораторах», «Агрикола», «Истории», «Анналы» – отличались глубоким психологизмом. Признавая неизбежность единовластия и ненавидя его носителей, он старался показать, что и в эпоху всеобщего разложения можно оставаться порядочным человеком, римлянином, сенатором, служить отечеству, избегая как подобострастия, так и излишней дерзости.
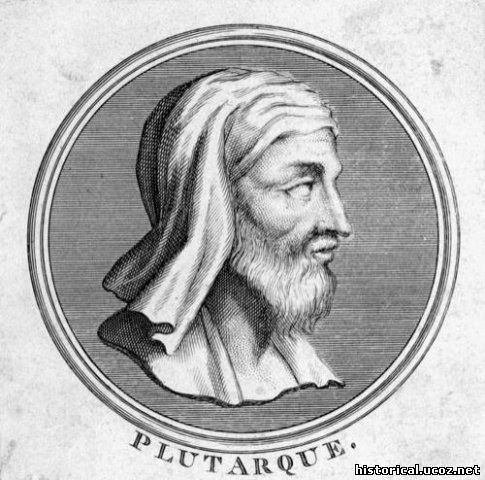
Плутарх
Уроженец Александрии Аппиан написал римскую историю, вернее, историю римских войн, в том числе и гражданских, в которых он, как замечал К. Маркс, вскрыл истинную причину борьбы мелкого и крупного землевладения. Грек Плутарх прославился биографиями знаменитых римских и греческих деятелей, но ему принадлежит также много других сочинений: философско-религиозные, наставления городским магистратам, советы частным гражданам, описание греческих и римских обычаев и т. д. Происходивший из сирийского города Самосаты известный писатель Лукиан в своих остроумных разговорах богов, небольших диалогах и рассказах о разных событиях высмеивал суеверия современников; претендовавших на мудрость, но пресмыкающихся перед богачами философов; историков, из лести императорам искажавших реальные факты; пародировал сочинения о фантастических путешествиях, попытки воскресить древние, ставшие уже непонятными обороты речи и слова. Дион Хрисостом был популярен как блестящий оратор. Светоний написал свои биографии 12 Цезарей – от Юлия Цезаря до Домициана.

Плиний Младший на фасаде кафедрального собора в Комо
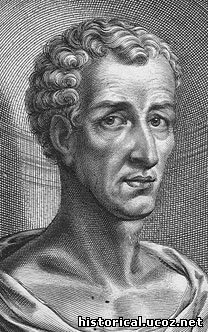
Лукиан из Самосаты
Большой популярностью пользовался эпистолярный жанр. Таковы, например, письма сенатора Плиния Младшего к друзьям и императору Траяну, когда он был наместником Вифинии. Новым был жанр романа. Из латинских романов до нас дошёл только роман «Метаморфозы» платоника Апулея из Африканского города Мадавра. В нём повествуется о приключениях обращённого в осла юноши, о его комических и печальных переживаниях, о встречах с разными людьми и, наконец, об обретении человеческого облика благодаря Изиде, почитателем которой он стал. В греческих романах обычной темой была любовь юноши и девушки необычайной красоты и добродетели, по воле случая разлучённых, претерпевавших всякие несчастья, но в конце концов воссоединявшихся с помощью богов. Судя по тому, что до нас дошли отрывки текстов таких романов на греческих папирусах, эти сочинения имели многих почитателей. Привлекал и занимательный сюжет, и образы героев: в любых обстоятельствах они вели себя как подобает свободнорождённым эллинам, стояли духовно выше, чем их поработители – персидские сатрапы и цари, к которым они попали в плен, что соответствовало учению о духовной свободе и о добродетели как о благах, дающих человеку силу сопротивления власть имущим.

Апулей
Конторниат (памятный медальон) IV—V веков.
Уроженцами провинций были многие видные юристы, занимавшие высокие посты в администрации империи и интенсивно разрабатывавшие вопросы римского права. Особенно славились юридические школы в сирийском городе Берите.
При Антонинах улучшилось положение рабов. У господ было отнято право их казнить, пожизненно держать в оковах, сдавать в гладиаторы. Если преступления были совершены рабами и им полагалось за это тяжкое наказание, то дело решал суд. Укреплялись права рабов на их пекулии, была признана их правоспособность (по естественному праву) и на владение имуществом. Фактически были признаны и семейные связи рабов. Когда в суде разбиралось дело о правах раба на освобождение (по завещанию, по выполнению какого-нибудь условия и т. п.), было предписано в сомнительных случаях решать дело в пользу свободы. Ограничивались притязания патронов на обязанности отпущенников. Самые богатые из них играли видную роль в городах.
Но вместе с тем усиливается эксплуатация провинциального крестьянства. Оно было менее романизовано, чем городские слои.

Бюст Адриана, Капитолийский музей.
Угнетение крестьян усиливалось по мере того, как под покровом благополучия золотого века Антонинов стали проступать некоторые тревожные признаки. Уже Адриан вынужден был простить провинциальным городам 900 млн. недоимок по налогам, но долги накапливались снова. Рабовладельческое хозяйство по мере своего развития в провинциях сталкивалось с теми же противоречиями, что и в Италии. Тот же антагонизм рабов и господ препятствовал созданию более крупного производства, в котором могла бы быть осуществлена сложная кооперация, предшествующая изобретению и внедрению машин. Ни удешевить производство, ни повысить значительно производительность труда, а значит, и прибавочный продукт не удавалось. К тому же значительную его часть поглощали обязательные затраты на нужды городов.
Несмотря на все попытки Антонинов поддержать города, к концу II в. н. э. мелкие города беднеют, а городские магистратуры из почётных и желанных становятся обременительными. Часть земель, не приносящих дохода, забрасывалась. С другой стороны, шёл процесс их концентрации в руках императоров и крупных землевладельцев. Со второй половины II в. н. э. эти земли вместе с обрабатывавшими их колонами изымались из территории и юрисдикции городов, что наносило тяжёлый удар последним, но было в интересах сенаторского сословия. Стал намечаться раскол между муниципальными земледельцами и земельными магнатами. Последние старались поставить окрестных крестьян в зависимость от себя, превратить их в своих колонов. А этот процесс вёл к ослаблению римской армии, в основном набиравшейся из земледельцев.
Тревожные симптомы сказались и на умонастроении социальных слоёв. Стремление выйти за пределы регламентированной действительности порождало интерес ко всему необычайному, чудесному, фантастическому. Стали популярны рассказы о сверхъестественных явлениях, призраках, демонах, духах, неведомых народах и зверях, наводнивших даже сочинения, которые претендовали на научность. Магия, астрология, демонология становились всё более популярными. Идеалом в глазах многих представлялись уже не герои «римского мифа», а мудрецы-провидцы, причастные к тайнам, посвящённые в сокровенную мудрость индийских брахманов, египетских жрецов, персидских магов. Соответственно препарировались пифагорейство, платонизм, из которых изымались политические и этические идеи, но обрастали новыми подробностями описания демонов, будто осуществлявших связь между богом и людьми, разрабатывались учения о мировой душе, об исполненном зла материальном мире, которому противостоит благой идеальный мир.
Среди простого народа стал расти протест против богатых и знатных, что способствовало распространению христианства, так как раннее христианство стремилось ответить на запросы широких масс. В судьбе Христа простой человек искал образец жизни и смерти, которому можно следовать. Христианский автор Лактанций писал, что Иисус пришёл на землю как сын плотника и умер смертью раба, чтобы за ним мог последовать всякий, даже самый бедный и простой человек. Христианство ставило новые цели – общие, для всех (достижение царствия Божьего на земле) и индивидуальные, для каждого (достижения вечного блаженства в Раю). Оно санкционировало разрыв с официальным миром, в котором нужно было жить, «воздавая кесарю кесарево», но не соприкасаться с ним внутренне, сохраняя свою духовную свободу и независимость. Оно отвергало богатых и знатных с их «мудростью», с их призрением к труду, подрывало уверенность в вечности существующих порядков и тем самым – моральную опору империи.
В отличие от распространявшихся прочих культов, христианство не только не пыталось включиться в императорский культ, но решительно его отвергало. Христианство первоначально распространялось среди городских низов (первые римские епископы были из рабов), но постепенно к нему стали примыкать и выходцы из других слоёв. Они привносили свою философию, повлиявшую на учения различных христианских сект, писали трактаты, излагавшие христианские вероучение и опровергавшие греко-римскую религию. Правительство, после гонений Нерона, то репрессировало отдельных христиан за отказ от участия в императорском культе, то оставляло без внимания, считая христианство суеверием невежд, ещё не понимая, что рост числа христиан – признак надвигающегося кризиса.
(Продолжение следует)
ИСТОЧНИК: «ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Кибе́ла¹ (др.-греч. Κυβέλη, лат. Cybele), Цибела, иногда Кибеба (греч. Κυβήβη) — в древнегреческой мифологии[1] богиня[2], имеющая фригийские корни. Известна также под именами: Кивева, Диндимена, Идейская мать, Великая Мать богов. По функциям близка к богине Рее, иногда вплоть до отождествления. Согласно Страбону, получила свое имя от Кибел[3]. Её храм в Сардах упоминает Геродот[4].
Важную роль в мифах о Кибеле играет история Аттиса.
Кибела родила от Иасиона Корибанта. После смерти Иасиона Дардан, Кибела и Корибант перенесли в Азию священные обряды Матери богов и отправились во Фригию.[5]. Кибела от Олимпа родила Алку, которую назвала богиней Кибелой[6]. Либо это девочка, вскормленная на горах зверями и получившая имя от горы Кибелы, подруга Марсия, возлюбленная Аттиса. Когда ее отец убил Аттиса, она побежала по стране с тимпанами, дошла до Нисы, там ее полюбил Аполлон и преследовал до гипербореев[7].
Пиндар написал ей дифирамб[8]. Среди авторов элегий был крайне популярен рассказ о жреце Кибелы и льве[9].
А́ттис² (др.-греч. Ἄττις или Ἄττης) — в древнегреческой мифологии[1] юноша необычайной красоты, родом из Фригии, возлюбленный Кибелы.
Родился и вырос у реки Галлы (см. Агдистис). Затем нисшел в пещеру и сблизился с нимфой[2]. Возничий Кибелы, привез Дионису доспехи работы Гефеста[3].
Святилище в честь Матери богов и Аттиса было в Димах (Ахайя). Согласно элегиям Гермесианакта, Аттис — сын фригийца Калая, переселился в Лидию и учредил оргии. Зевс наслал на поля кабана, который умертвил его. По другому преданию, Аттис пришел в безумие и отсек себе половые органы[4]. Галлы (жрецы Кибелы) отсекали крайнюю плоть «самосским черепком» или острым кремнем[5]. В стихотворении LXIII Катулл говорит об Аттисе до оскопления в мужском роде, после оскопления — в женском. |